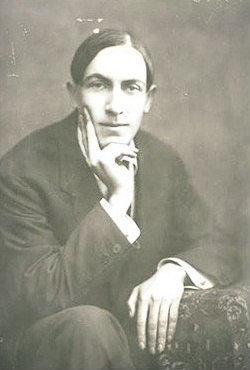
Глава 7.
А. Б. Мариенгоф. "Зелёных облаков стоячие пруды"
Просматривая записные книжки сына, убитый горем отец
обнаружил вопрос: «А вдруг я бездарный?
Вдруг я действительно бездарный? Вдруг все мечты разлетятся? Нет, этого не
может быть. А вдруг?..» Это страшное «вдруг» росло, увеличивалось, делалось всё
более вероятным и отчётливым. Сыну казалось, что так оно и случится в жизни. «Ну нет! – протестовал он с юношеским максимализмом. – Тогда
я покончу самоубийством».
Каким же виноватым ощущал себя его отец, что прежде не заглянул в
эти блокнотики и дневники, доверчиво оставленные открытыми на столе!
Тогда непоправимое можно было бы предотвратить! Именно ему, начинателю дела
имажинистов, поэту и литератору, на протяжении всего творческого пути
приходилось выслушивать сомнения и упрёки в собственной одарённости, поучения
полуинтеллигентов и полуневежд, что и о чём писать,
командный ор Союза писателей. Именно он, Мариенгоф,
изведав ещё при царе, как интеллигентные
молодые люди сразу после гимназий и университетов, будучи «вольноопределяющимися»
на военную службу, стояли на вытяжку перед полуграмотным, матерящимся почём зря
фельдфебелем из «народа», мог послать всё это княжеско-пролетарское хамство
вежливым «Мерси!»
«Оглушительное
тявканье», – вещала передовица газеты, в
которой правды не было ни на грош. А с нею «пошла
писать губерния» и пишет до сих пор, клеймя и изобличая, милуя и казня. Казни,
впрочем, случаются много чаще и с большим размахом, чем помилования. Таков
крест, который имажинизм несёт уже без малого сотню
лет. Сотню лет проработок и натужных попыток сведения к «символу» и «футурью», гробокопательства и насильственного
разделения тех, кто без всякого дозволения оказался связан вместе как при
жизни, так и по смерти.
Очередную
проработку в газетах сын переживал гораздо сильней и глубже отца: это ведь ему
приходилось встречать тридцать пять если не врагов, то недругов в классе, когда
Анатолий Борисович находил себе утешение в высоких исторических аналогиях:
–
Один критик написал, что я умру пьяным под забором, – жаловался Чехов Горькому.
–
Книги Чехова… представляют собою весьма печальное и трагическое зрелище
самоубийства молодого таланта, – писали горе-знатоки
о его «Пёстрых рассказах».
Чудно!
Какой-то бред, как видимо, от удушья: полуинтеллигенты о Чехове, полуневежды о Мариенгофе, –
прослойка, кормящаяся изобретением собачьих блюд.
«Я чувствую, что это самоубийство – сплошная литература
и никогда я не сделаю этого», – пытал судьбу Кирка.
«Становится совсем
тяжело. Неужели даже наедине не можешь быть искренним? Нет, не могу. Я
могу быть искренним, когда говорю с другими. Тогда это у меня получается. А
наедине ничего не выходит», – и это было куда серьёзней: невозможность быть
самим собой, невозможность вступить в диалог с Тем,
кто никогда тебе не изменит.
А ты Ему?
Экзистенциальное одиночество.