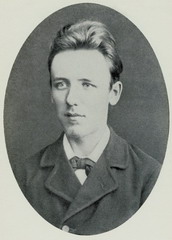
Глава 2.
Ф. К. Сологуб. "Суровый звук моих стихов"
«Такой народ, такая сторона», – на горькую истину этих
слов, познав, не сетовал Фёдор Кузьмич Сологуб. Автор знаменитого романа
«Мелкий бес», в котором уродливое и прекрасное
российской глубинки отражалось одинаково точно, мог говорить одинаково свободно
речью рафинированного французского символизма, и босяцким слогом глухой рабской
жизни в неясном страхе, и высоким косноязычием дарованной поэту свободной
мысли:
«О, смертная тоска, оглашающая поля и веси, широкие
родные просторы! Тоска, воплощённая в диком галдении, тоска, гнусным пламенем пожирающая живое слово,
низводящая когда-то живую песню к безумному вою! О, смертная тоска! О, милая,
старая русская песня, или и подлинно ты умираешь?»
*
* *
Мы – пленённые звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.
Если сердце преданиям верно,
Утешаясь лаем, мы лаем.
Что в зверинце зловонно и скверно,
Мы забыли давно, мы не знаем.
К повторениям сердце привычно, –
Однозвучно и скучно кукуем.
Всё в зверинце безлично, обычно.
Мы о воле давно не тоскуем.
Мы – пленённые звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.
Общество, в котором «мы – пленённые звери», как умело, голосило,
лаяло, куковало, – обезличенное, обычное, верное преданиям.
«О,
это – звери особенные. У них есть своя история, – замечает Иннокентий
Анненский. – Метафора? Отнюдь нет. Здесь пережитость,
даже более – здесь постулат утраченной веры в будущее». («О
современном лиризме». С. 349)
Поднять
свой голос во имя личностного освобождения, переоценки ветхих ценностей
означало сказать о зловонии и скверне, царящих в зверинце, означало обличить
кондовый быт и тяжёлую плоть, назвать вещи своими именами. Дело неблагодарное –
быть в глазах современников и петербургского прокурора автором «оскорбляющих
нравственность» романов, «ворожащим колдуном», «серым чёртом», а для поколений
грядущего – дитём мрака и скорби, «кирпичом в сюртуке» (В. Розанов),
«живым воплощением духа декаданса в русской литературе» (К. Савельев).
Дело неблагодарное и к тому же обоюдно рискованное – как для личной свободы,
так и для общественного спокойствия. Волну самоубийств начала ХХ века
объясняли, в том числе, «цветами зла» русского Бодлера,
хотя и у самого рьяного критика «сологубовщины»,
буревестника революции Максима Горького герои кончали с собой, умирали от
любовного истощения, вынимали сердце и проч. и проч.
Дело
неблагодарное и по-мужски рискованное.
Его
не убоялся поэт.